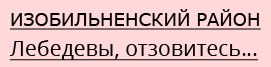Я стояла у старой ухоженной могилки и смотрела на бесконечно дорогое мне лицо моей бабушки Домны Ивановны Фоминичевой. Она смотрела на меня с фотографии, а я невольно вспоминала её рассказ, который врезался в мою память навсегда.
«Жили мы тогда, Валюша, нормально, крепкая семья была, — начинала бабушка. — Но беда постучала в дверь нежданно-негаданно. Хотя уже по нашему хутору Вислому у всех его жителей шелестело на губах страшное слово «раскулачивание». Добрались и до моего свекра Евтея Фоминичева — прадеда твоего, значит. Посчитали его богачом: держал он на своей мельнице двоих работников. Потом и Осю, мужа моего, раскулачили. Приговор — сын кулака, хотя у нас с ним тогда и коровы-то не было. Меня он ведь из бедной семьи взял. Нас у матери с отцом было пятеро. Домочкой Лебедевой все меня звали, белолицая я была да кудрявая. Увидел меня Ося, дед твой , в окружной станице на ярмарке. Пряником угостил, на карусели пригласил. Видать, сразу я ему понравилась, что против родительской воли пошёл, не стал жениться на богатой. Хорошо, свекор нам флигель купил да курочек отделил.А к работе я привычная сызмальства была.
Зима в этот год выдалась снежная и суровая. Раскулаченных, вместе с женами и детьми стали грузить на подводы. Я с полугодовалым Проней, отцом твоим, на колени падала перед уполномоченным и со слезами просила подождать с отправкой. Дело в том, что старший мой сынок Ваня в это время находился в Константиновской, у моей сестры Дуни. Как же мы могли уехать куда-то в даль, неизвестную, бросив своего дитя! «Не положено ждать!» -отрезал уполномоченный , что командовал погрузкой , и всё тут. Так и увезли нас без Вани, так он и остался с теткой да с её сыном Степкой, с каким был не разлей вода с раннего детства. Почти одногодки, были они, братья двоюродные, вместе на Дон ходили рыбу ловить, а то и на бахчу пробирались арбузы лопать. Дуня не обижала детей, оба ведь родная кровь — и сын, и племянник.
На железнодорожной станции погрузили всех и нас, висловских, в товарные вагоны, пересчитали и отправили, как потом мы поняли, на Урал. А сердце моё разрывалось: как же там Ваня, свидимся ли живыми?
А зима я уж говорила тебе, Валюша, в тот год на Дону была редкая, сильно снежная. Рассказывали, что вся станица Константиновская была завалена снегом по самые трубы. И только колокольня Покровского храма далеко была видна. Подворье Дуни тоже завалило, а Ваньке со Степкой раздолье и радость. Резвились, прыгали по крышам с амбара на лестницу, потом на коровник, на свинарник и обратно. А беда-то рядом ходила. У амбара соломенная крыша возьми да и провались, и Степка ухнул вниз. Ни стона, ни крика — виском прямо на камень...
Дуня долго выла, оглушенная горем. «Встань, сыночка моя... хоть словечко скажи...». Да, внученька, нет горя лютее, чем дитя родного хоронить. Не дай, не приведи Господи никому...Долго еще Дуня причитала, а Ваня еще не совсем понимал, что же произошло. Уставился глазенками на алое пятно на снегу и смотрел на него, не отрываясь. А потом позже, в детдоме, долго не мог спать, иногда до утра, потому что все чудилось ему это пятно на белом-белом снегу.
Всего шесть лет было Степке, когда он вот так погиб. Дуня никак не могла успокоиться: за какие же грехи ей такое тяжкое наказание? И однажды, одуревшая от горя, прошипела прямо в лицо Ване: «Лучше бы ты, убился! Ты же ни кому не нужен!»
Эти слова легли клеймом на всю Ванину жизнь. И беспризорничал, и побирался, было такое и воровал, чтоб прокормиться. Пока добрые люди не определили его в детдом. Рос он смышленым, до всего хотел своей головой дойти, много книжек читал. Очень любил книгу о Спартаке. Потом говорил мне , что эта книга его путеводитель по жизни.
А встретилась я со своим сыночком аж через двадцать лет, когда вернулась в хутор из ссылки. Сердце все изнылось по нему, глаза все выплакала...Вернулась я уже без мужа, Осю, деда твоего, с Урала забрали на фронт, и он пропал без вести в 43-ем году под Сталинградом. Остались мы с Проней, твоим отцом одни в чужом краю. А когда после войны вернулись в Вислый, жить нам там было негде. От нашего родового хозяйства осталась, как памятник, только старая мельница Евтея, что между нашим хутором и Мечетным стояла. Долго она, мельница-то, махалась остатками крыльев пот ветру. Гражданскую пережила, в Отечественную отстояла. Да ты, внученька, должна её припоминать, уже большенькая была, когда её напрочь-то поломали...
Делать нечего, да и подались мы с Проней к родственникам в Константиновскую. Тут он и женился на марии, твоей маме, тут и ты родилась. Сюда и Ваня после армии пришел. И умный, и видный из себя, а жизнь у него почему-то так и не сложилась...Ну, ладно, Валюша, поздно уже, давай спать ложиться...»
Не помню, сколько времени простояла я у бабушкиной могилы, всматриваясь в её лицо на фотографии. На глаза наворачивались слезы. Раньше, по молодости, не понимала, а теперь, как молнией ударило — я почувствовала всю тяжесть судьбы, выпавшую на долю моих предков. Дядю Ваню помню: умный и статный, он привлекал собой многих девушек и женщин. Но ни одной из них так и не смог сказать: «Пока смерть не разлучит нас». Эти слова он, по сути, сказал только матери, с которой и жил вместе до её кончины. Видно, больно ранило его душу насильное сиротство. Умер он бобылем четыре года назад. Отец же мой, Прокофий Иосифович Фоминичев, слава Богу и ныне жив.
Вспомнила я и прадедовскую мельницу, которая всему виной в истории семьи оказалась. В начале 70-х годов она еще стояла, сияя пустыми глазницами окон. Помню, как поразил меня какой-то незнакомый, словно космический звук: скрип двух оставшихся крыльев маховика сливался со свистом ветра, гулявшего в пустом остове мельницы. Наверное, так звучит само Время.
В. Фоминичева.
г. Константиновск.